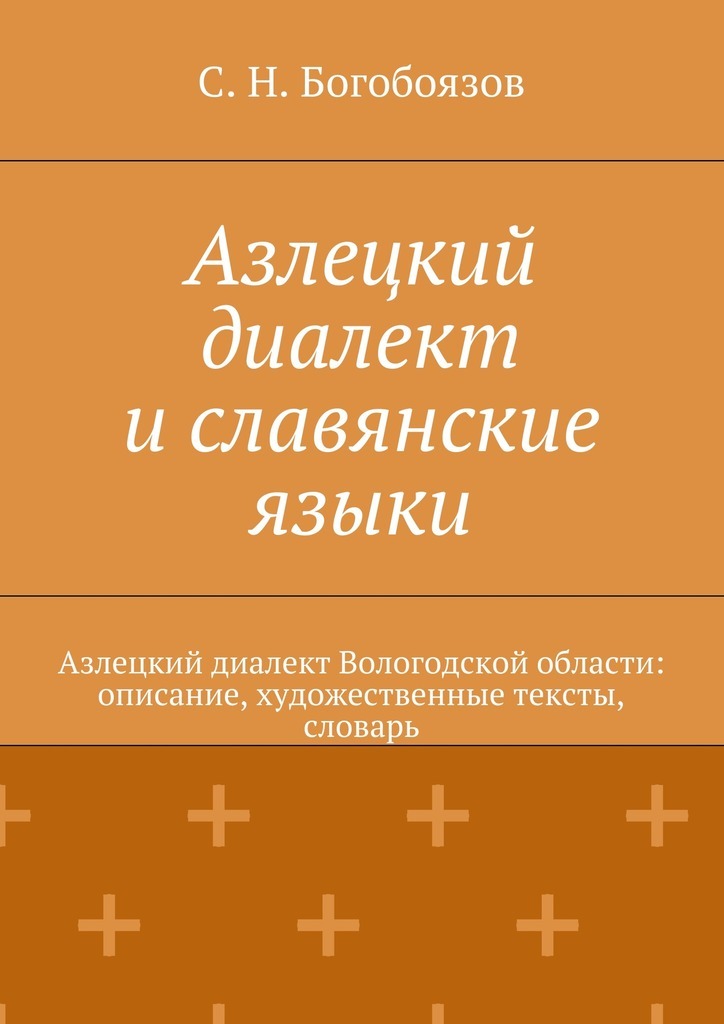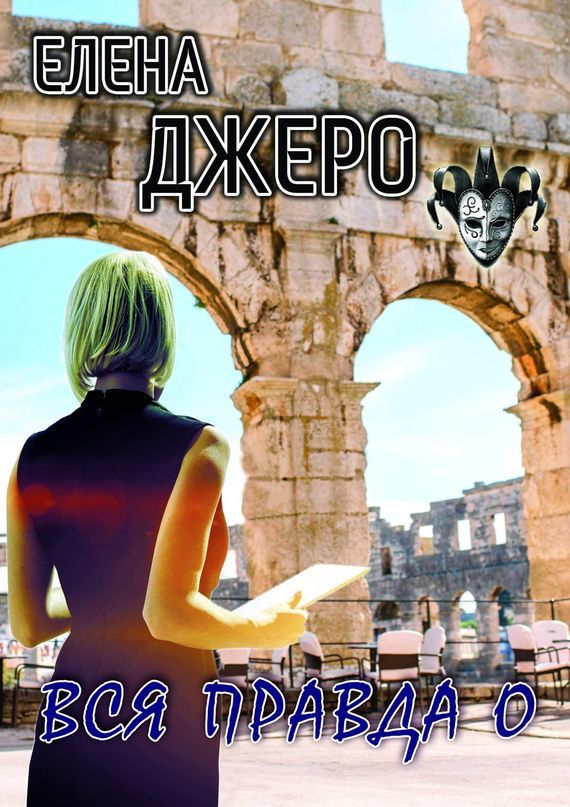Мир приключений и литература
Говорить об интересе читателей к приключенческой литературе не приходится, — уже при возникновении своем рассчитанная на широкую публику, в наши дни она издается огромными тиражами. Но когда речь заходит о литературоведении, нередко приходится сталкиваться с тем, что в академических кругах литература эта — от Дюма до Агаты Кристи — воспринимается с некоторым, что ли, недоумением, если не презрением, как синоним дешевого чтива.
При этом обычно происходит явное смещение акцентов, и в результате на любое произведение приключенческого жанра распространяются воззрения и оценки, с которыми наша критика — совершенно справедливо — подходит к поделкам массовой культуры. Но ведь поделки эти, наводняющие книжные рынки Запада, эксплуатируют лишь внешние приемы приключения, напрочь и совершенно сознательно отказываясь от того, что составляет суть любой, в том числе и приключенческой, литературы, — от ее гуманистического пафоса.
Если же вести речь опять-таки о читателях, заметим, что далеко не всегда (во всяком случае, гораздо реже, чем нам кажется) человек, увлекающийся романами Дюма, Саймака или Гарднера, настолько уж невзыскателен; книги эти читают и студенты-филологи, и почтенные академики, и молодые ученые — словом, люди, достаточно хорошо разбирающиеся в искусстве слова, знающие Толстого и Достоевского, Шекспира и Маркеса, Гёте и Стендаля, Фицджеральда и Камю. Так чем же привлекает приключенческая литература такого вот читателя?
Как действует “механизм” ее воздействия? Мы плохо себе это представляем, хотя всем ясно, что он совершенно иной, чем в литературе реализма. Не изучен генезис приключенческой литературы, ее эволюция, своеобразие ее художественного мира, ее структура, ее связи с большой литературой. (Заметим сразу: “большая литература” — термин, конечно, условный и отнюдь не носит оценочного характера.)
Ученые и критики даже не установили пока, что именно следует считать приключенческой литературой. В КЛЭ так и говорится: “Приключенческая литература — понятие, не имеющее строго очерченных границ”, хотя далее справедливо называются в качестве ее главных компонентов собственно приключенческий роман, детектив, а также научная фантастика. Каждый из этих видов и жанров имеет свои отличительные особенности, но в то же время, скажем от себя, не только в сознании читателей, функционально, но и по своим достаточно устойчивым структурным принципам они имеют много общего, что объединяет их в особый мир — мир литературы приключений. Выявить главные художественные принципы приключенческой литературы — вот цель данной статьи.
Как положительный факт надо отметить, что за последние годы появились исследования, авторы которых ставят в разных плоскостях и в связи с разными интересующими их вопросами проблемы поэтики того или иного приключенческого жанра. Назовем книгу Я.Маркулан “Зарубежный кинодетектив” (Л., 1975), статьи Н.Ильиной “Палитра красок”, или Автор и критик современного детектива” (“Вопросы литературы”, 1975, № 2) и А.Вулиса “Поэтика детектива” (“Новый мир”, 1978, № 1). Научной фантастике особенно повезло — выпущено несколько книг, где систематизирован огромный материал, прослежены взаимодействие науки и литературы, истоки научной фантастики: “Карта страны фантазий” Г.Гуревича (М., 1967); “Русский советский научно-фантастический роман” А.Бритикова (Л., 1970); “Фантастика и наш мир” А.Урбана (Л., 1972); “Фантастика — о чем она?” Ю.Смелкова (М., 1974); “Что такое фантастика?” Ю.Кагарлицкого (М., 1974); опубликован также ряд интересных статей, в том числе на страницах “Вопросов литературы”: Ю.Кагарлицкого “Реализм и фантастика” (1971, № 1) и “Фантастика ищет новые пути” (1974, № 10); Ю.Смелкова “Гуманизм технической эры” (1973, № 11); Т.Чернышевой “О старой сказке и новейшей фантастике” (1977, № 1) и “Потребность в удивительном и природа фантастики” (1979, № 5). И все же каждый раз речь идет о каком-то одном жанре, а его связи с приключением или тем более общие принципы приключенческой литературы в этих работах не затрагиваются.
Неразработанность проблем приключенческой литературы приводит к тому, что, говоря о ней, критики часто игнорируют ее специфику. В произведениях реализма нас захватывает стихия самой действительности, психологическая глубина характеров, там — “учебник жизни” и “приговор писателя” над ней. От приключенческой книги читатель ждет совершенно другого, и автор ее ставит перед собой совершенно иные задачи, но оценивать ее критики стремятся по меркам литературы “серьезной”, ищут в ней то же самое и нередко даже гордятся этим: мол, говорить о том или ином детективе можно “без скидок на жанр”. А обнаружив, что этих мерок она не выдерживает, считают ее второсортной. “Мне в литературе образ человека подавай, и чтобы я с ним свыкся, и чтоб мог представить жизнь, которая его сформировала, и его отношения с другими людьми — социальные, семейные, любовные, бытовые... Одним словом, меня интересует все, что не интересует Гарднера и Чейза, Карра и Бентли, Э.Фишер и А.Кристи” [В. Ковский, “Я надеюсь, что книга хорошая...”. — “Вопросы литературы”, 1975, № 7, с. 103], — пишет критик, как будто речь идет о психологическом романе, а не о таком своеобразном жанре, как детектив.
Если же в этой области литературы появляется хорошая, по мнению критика, книга, то ясно, что она не может быть приключенческой, ее надо выводить из этой несерьезной рубрики, подверстать под большую литературу. Так возникают утверждения вроде того, что “лучшие книги Кристи в их совокупности — своего рода энциклопедия провинциальной Англии (по-видимому, по аналогии с “Евгением Онегиным”. — Л М.), ее обычаев, предрассудков, образа жизни и человеческих типов, ею порожденных” [В.Скороденко, Предисловие к сб. “Современный английский детектив”, М., “Прогресс”, 1971, с. 6].
Стесняются слова “приключение” и те, кто говорит и пишет о научной фантастике, в том числе нередко и сами писатели, предпочитая протягивать нити к Свифту, Гофману, Кафке. Подобные аналогии в историко-литературных исследованиях возникают совершенно закономерно: вопрос только в том, как далеко могут простираться такие сопоставления и можно ли ограничиваться ими. Между тем аналогии эти очень часто заслоняют приключенческое начало, присутствующее и у Г.Уэллса, и у И.Ефремова, и у С.Лема, и у А.Азимова, и у братьев Стругацких, — то есть один из тех важнейших компонентов научной фантастики, за которые ее так любят читатели, в том числе и высокоинтеллектуальные, и без которых нельзя понять ее своеобразие. И действительно, зачем тогда сделан разведчиком Антон Румата из “Трудно быть богом”, зачем в лучших научно-фантастических романах или новеллах то и дело кого-нибудь похищают: иногда традиционную красавицу, иногда ученого, а то и какой-нибудь загадочный мозг-трансплант?
Да, слова “приключение” критики явно стесняются, хотя романы Дюма насчитывают почти полтора столетия, “Всадник без головы” и “Таинственный остров” — около ста, а самому молодому из рассказов о Шерлоке Холмсе уже более пятидесяти лет. Время — высший судия в вопросах искусства, и ежели оставляет оно на книжной полке произведения, чья популярность возрастает от десятилетия к десятилетию, то говорить об их второсортности (или подразумевать ее, дотягивая до “серьезных”) — значит мыслить по аналогии, по сложившейся привычке. Бесплодность такого подхода становится все более очевидной. И недаром в последнее время начинает пробиваться другой взгляд, скажем, на детектив.
“Детектив, — повторяю я, а не “Отцы и дети”, не “Братья Карамазовы”, не “Разгром” и не “Хождение по мукам”. Всему ведь свое место. Оперетта — законное детище театра, но странно было бы уравнивать ее с симфонической музыкой, а шлягер — с оперной арией” [Н.Ильина, “Палитра красок”, или Автор и критик современного детектива.—“Вопросы литературы”, 1975, № 2, с. 119], — пишет Н.Ильина. В этом высказывании заложена правильная мысль (хотя и не доведенная до конца) о необходимости разного подхода к “Преступлению и наказанию” и “Собаке Баскервилей”, — различна сама природа, сами законы, по которым строятся эти произведения. И подходить к приключенческому роману надо не со снисходительным: “Ну что вы хотите, это же про пиратов”, — ибо время отбирает приключенческую литературу, пожалуй, даже более строго, чем литературу “серьезную”.
Мы можем поставить на полку книгу “представителя раннего романтизма” или “позднего барокко”, плохо (и мало) читаемую, зато “оказавшую влияние”, но скучному приключенческому роману там места не будет. Представьте себе мысленно ряды томов, вошедшие в историю литературы в качестве классики за вторую половину XIX века, и сравните их с небольшой горсточкой книг, оставшейся за тот же период от литературы приключенческой, хотя она в эту пору уже достигла расцвета, и станет ясно, что искусство развлекать, так же как и искусство смешить, — штука нелегкая, пожалуй, потруднее, чем умение заставить плакать. И потому, на мой взгляд, сравнение типа “ария — шлягер” не вполне правомерно: сравниваются явления качественно неравноценные; больше, пожалуй, подходит сопоставление драматического искусства и цирка. Точно, по секундам, рассчитанный трюк, аффектированность его подачи, расшитые блестками парчовые костюмы, которые привели бы нас в содрогание в любом другом месте, — все это прекрасно в цирке и совершенно неуместно в театре.
Если же взять за исходные данные, что приключенческая литература не хуже (но и не лучше, как полагают не слишком искушенные читатели), чем литература неприключенческая, что она другая, по другим законам строящаяся, тогда можно будет подойти к исследованию ее системы, и тогда не понадобится дотягивать Агату Кристи до энциклопедии английской жизни.
Мир Дюма и Майн Рида, Жюля Верна и Сименона, Честертона и Лема — мир, построенный по особым законам. Если попробовать ответить на вопрос, что же такое приключение, которое и делает этот мир особым, создать, так сказать, рабочую гипотезу, не претендуя на полный, сугубо научный “охват”, то можно связать приключение со словом приключаться. С обычными персонажами что-то происходит, а с авантюрными — приключается. Случайно и неожиданно. “...Я вдруг и совершенно неожиданно понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину!.. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!” Казалось бы, весь строй этого отрывка авантюрный, я бы даже сказала, авантюрно-криминальный, и все же это не приключение: весь роман М.Булгакова (откуда взяты эти строки) убеждает нас в том числе и в том, что любовь Мастера и Маргариты не случайна, закономерна (хотя закономерность эта глубоко запрятана), что ее не могло не быть. Герои и сами понимают это: “Она-то, впрочем, утверждала впоследствии... что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя...” Все причинно, все обусловлено в большой литературе. И есть глубокая, закономерная неизбежность в том, что Наташа Ростова вдруг влюбилась в Анатоля Курагина, что нос майора Ковалева в один прекрасный день зажил самостоятельной жизнью и что князь Мышкин разбил-таки китайскую вазу, от которой он, боясь своей неловкости, еще в самом начале приема решил держаться подальше.
Но нет никакой закономерности в том, что в окрестностях Рио-Гранде объявился всадник без головы, или в том, что на планете X обосновались мыслящие тарантулы. На роль случая в далеком предшественнике приключенческого романа, греческом романе, указывал М.Бахтин: “...Нормальный и прагматически или причинно осмысленный ход событий прерывается и дает место для вторжения чистой случайности с ее специфической логикой. Эта логика — случайное совпадение...” [М.Бахтин, Вопросы литературы и эстетики, М., “Художественная литература”, 1975, с. 242]. Принцип “случайного совпадения” пережил века. У известного американского фантаста А.Азимова есть рассказ “Что, если...”. Пожалуй, оговорив, что это “если” всегда произвольно, незакономерно, мы можем поместить под этим девизом вообще всю приключенческую литературу. А что, если знаменитый пират закопал свои сокровища на острове, а кто-то об этом узнал и отправился их откапывать? А что, если Железная маска сбежит из-под стражи и попытается отнять трон у своего брата-близнеца Людовика XIV?
Такое глобальное господство случая в мире приключений возможно потому, что мир этот — мир во многом условный, действительность изображается в нем не в свете ее собственных закономерностей, а на основе определенного приключенческого канона, имеющего очень древние корни. В своей работе “Формы временя и хронотопа в романе” М.Бахтин приходит к выводу, что уже на античной почве утвердились чрезвычайно гибкие и плодотворные способы художественного освоения времени (“авантюрное время”) и пространства, которые “определили развитие всего авантюрного романа до середины XVIII века” [М. Бахтин, Вопросы литературы и эстетики, с. 236]; на самом же деле эти способы оказываются определяющими и для той литературы, которую ныне принято называть приключенческой.
Потому так преображаются исторические события, например, в романах Дюма, что автору надо переделать их на авантюрный лад, превратить закономерность в случайность. Что может быть авантюрней сюжета: двое проникают в сокровищницу, где хранятся несметные богатства владык земных. Было бы странно, если бы в многочисленных романах Дюма не обнаружилось подобной ситуации. Естественно, она и обнаружилась: в “Двадцать лет спустя” д’Артаньян и Портос, находящиеся под арестом, переодеваются в захваченную ими форму караульных, спускаются вслед за кардиналом Мазарини (не имеющим ничего общего с историческим прототипом) в подземелье, где он прячет накопленные им богатства? На сокровища они не покушаются, но зато освобождают Атоса, освобождаются сами, берут кардинала в заложники и т.п., — словом, перед нами классический набор приключений, вытекающий из самой сути авантюрных персонажей, но не из реальных исторических фактов. Знаменитые герои могли спастись из-под ареста как-нибудь иначе, да и место спасения могло быть иным: подземелье, где хранятся сокровища, явно избрано ради вящей романтичности.
Другие, хотя и схожие обстоятельства: сокровища патриаршей ризницы. Богатств, конечно, неизмеримо больше, следовательно, и романтики побольше. С массой авантюрных ситуаций, таящихся в этом сюжете, нас познакомило телевидение в фильме “Черный треугольник”: алмазно-изумрудный блеск, тайны, погони, пальба... С точки зрения замысла авторов тут все правильно: в соответствии с самой общей исторической ситуацией и со строгой авантюрной этикой, произведения эти заканчиваются победой добра над злом, правого дела над неправым. Но вот конкретные исторические факты, попав в авантюрный контекст, приобрели совершенно специфическое звучание, превратились в столь знакомую (но от этого не менее захватывающую) вариацию на тему: найдут — не найдут, поймают — не поймают. Условно-детективная схема с ее условными смертями (а попросту — выбывающими из игры фигурами) не отражает, да и не может отразить всю сложность исторических событий, драматизм человеческих судеб.
И — сцена, написанная с совершенно иных позиций. Князь-кесарь Ромодановский приводит Петра в палату приказа Тайных дел. Тому после поражения под Нарвой деньги нужны настолько, что он готов отнять у монастырей их казну. Понимая, какую бурю может вызвать задуманная Петром мера, Ромодановский открывает царю тайно сберегаемые богатства. “Паутина, прах. На полках вдоль стен стояли чеканные, развилистые ендовы — времен Ивана Грозного и Бориса Годунова; итальянские кубки на высоких ножках; серебряные лохани для мытья царских рук во время больших выходов; два льва из серебра с золотыми гривами и зубами слоновой кости; стопки золотых тарелок; поломанные серебряные паникадила; большой павлин литого золота, с изумрудными глазами, — это был один из двух павлинов, стоявших некогда с боков трона византийских императоров. Механика его была сломана. На нижних полках лежали кожаные мешки, у некоторых через истлевшие швы высылались голландские ефимки. Под лавками лежали груды соболей, прочей мягкой рухляди, бархата и шелков — все побитое молью, сгнившее. Петр брал в руки вещи, слюня палец, тер: “Золото!.. Серебро!..” Считал мешки с ефимками, — не то сорок пять, не то и больше... Брал соболя, лисьи хвосты, встряхивал: — Дядя, это же все сгнило... Петр хлопнул себя по ляжкам: — Выручил, ну — выручил... Этого мне хватит...”
Обратим внимание на совершенно
“неавантюрную” манеру описания сокровищ: цель А.Толстого — донести до нас зримый облик эпохи, а не блеск алмазов, описание же всего, что сгнило, истлело, сломалось, и вовсе переводит повествование в другую плоскость. За разницей в изображении — разница в подходе: вот лежало без пользы (и частью испортилось, потеряно) добро, а теперь оно будет с толком употреблено для блага государства Российского. И это уже — сама история, даже если приведенная сцена целиком выдумана писателем и никакие документы ничего, хотя бы отдаленно на нее похожего, не зафиксировали. Два единомышленника решают государственное, исторически необходимое дело — судьбу России, а это и есть то главное, что отличает разговор Ромодановского с Петром от авантюр Атоса — Портоса — д’Артаньяна.
И так же, как отдельный эпизод авантюрного толка в контексте социально-психологического романа совершенно меняет окраску, так и целый сюжет, включенный в реалистическое произведение, коренным образом трансформируется. В том же “Петре Первом” наглядным примером может служить авантюрная в своей основе история превращения шведской служанки в русскую царицу, полностью лишенная А.Толстым случайно-авантюрного налета.
Вряд ли Дюма настолько уж не понимал ход исторических событий, как его в том часто упрекают. Чего-то, наверное, не понимал, но во многих случаях сознательно перекраивал историю, предпочитая законам истории законы жанра. Однако такая “разведенность” приключения и неприключения оформилась не сразу. Обратимся к одному из традиционных сюжетов приключенческой литературы — необитаемому острову. Заметим, кстати, характернейшую и оригинальнейшую черту этой литературы: одни и те же ситуации, схемы, конструкции кочуют из одного произведения в другое. Собственно говоря, эволюция приключенческой литературы и есть во многом эволюция подобных схем, конструкций, принципов их построения, их монтажа. Итак, необитаемый остров и эволюция художественных принципов приключенческой литературы.
Родоначальником сюжета следует, по-видимому, считать Даниеля Дефо. “Робинзон Крузо”, шедевр большой литературы, написанный в 1719 году, явился в то же время одним из провозвестников литературы приключенческой. Но нечто очень существенное отличает роман Дефо от позднейших образцов авантюрного жанра — закономерность реально случившегося. Все, что приключилось с Робинзоном,— не случайно, более того — он сам тому виной: не слушался родителей, не думал о душе; не приключение, а многолетнее заточение на острове как кара за прегрешения — вот сюжет романа. (Кстати, и мотив кары, и горькие сожаления о непослушании — все это тоже совершенно чуждо приключенческой литературе, которая, наоборот, как бы призывает ввязываться во всякие сомнительные истории.)
Оснащая авантюрную ситуацию совершенно неавантюрно-логической закономерностью, Дефо помещает в эту ситуацию абсолютно неавантюрного героя, совершающего абсолютно неавантюрные действия. “Очутившись на острове, вынужденный как бы заново и на пустом месте начинать жизнь, Робинзон, по словам одного критика, “осмотрелся и стал жарить бифштексы”. Иначе говоря, всеми силами постарался сохранить привычки “домашние”, исконно ему свойственные. Не новую жизнь он начал, а восстанавливал условия, необходимые для продолжения прежней своей жизни” [М. и Д. Урновы, Современный писатель.— В кн.: Даниель Дефо, Робинзон Крузо, М., “Художественная литература”, 1981, с. 12]. Робинзон ведет на острове деловую, неромантическую жизнь, полную повседневных, однообразных забот. Об урожае на острове он заботится точно так же, как хлопотал о своей плантации в Бразилии. И все-таки ситуация сама по себе благодаря своей необычности, экстремальности обладает таким мощным приключенческим зарядом, что вся эта деловая активность, попав в ее мощное поле, приобретает во многом характер приключения. От такого, например, прозаического занятия, как уход за козами или изготовление лопаты, зависело, выживет Робинзон или нет,— и потому мы готовы читать, как именно он изготовил лопату, с тем же вниманием, с каким читаем, как потерпевшие аварию астронавты изготовляют какую-нибудь гайку, ставшую для них вопросом жизни и смерти.
Впрочем, от лопаты до гайки космического двигателя — “дистанция огромного размера”, и не только техническая, но и романическая. Умение предельно заострить ситуацию и сконцентрировать ее в одной мелкой, вроде бы чисто технической детали — такова эволюция сюжетной техники приключенческого романа (повести, рассказа). А пока что неторопливое повествование о том, как Робинзон жил на острове, может быть сравнено с документальными рассказами путешественников типа “В дебрях Амазонки”, “За бортом по своей воле” и т.д.
Свою документальность роман Дефо теряет, приобретая взамен авантюрность, в тот момент, когда на острове появляется Пятница. Во-первых, потому что это событие, которое уже не “происходит” (вроде сбора урожая или устройства изгороди), а “случается”. Кроме того, приключению негде развернуться при одном участнике, оно плохо переносит одиночество. Подобно тому как в детективе подозрение переходит с одного действующего лица на другое, связывая их в единый сюжет, приключение развивается из взаимодействия нескольких персонажей.
Итак, на острове начались приключения — следом за Пятницей сюда же пристал корабль со взбунтовавшейся командой. Следует подчеркнуть одну особенность этих событий — все они не имеют никакой связи с самим Робинзоном, происходят независимо от его воли, от его действий. Пятница — естественное порождение этих краев, какого-нибудь острова, соседнего с робинзоновским, и смотрится он здесь так же естественно, как окружающие деревья и камни. Приплывший сюда корабль, прибитый неизвестно каким ветром,— также своего рода “дары моря”. Приключения возникают извне, и в этом — чрезвычайно важном моменте! — проявляется, с одной стороны, попытка как-то мотивировать их возникновение, а с другой — невозможность вывести их из характера, из действий главного героя: персонаж неавантюрен.
Следующий этап развития сюжета — “Граф Монте-Кристо” (1845 — 1846). Впрочем, точнее было бы говорить о новом этапе в развитии литературы, о формировании нового жанра — приключенческого романа и шире — приключенческой литературы.
Существует точка зрения, согласно которой приключенческая литература существовала с незапамятных времен. И в этом есть резон, поскольку испокон веков присутствует в литературе приключение, а если иметь в виду и фольклорные жанры, то и истоков уведут нас в глубокую древность. И все же то, что мы называем приключенческой литературой сегодня, можно обозначить достаточно точно. Литература эта — порождение новой эпохи, ее формирование обусловлено двумя тесно связанными между собой причинами: закономерностями развития самой литературы, упрочением в ней критического реализма и появлением массового читателя, а следовательно, и книжного рынка.
“Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать”, — это почувствовали многие литераторы в 30-х годах прошлого века. В 1843 году Эжен Сю с огромным успехом использовал принцип романа-фельетона (именно так публиковались “Парижские тайны”), его классическую формулу: “Продолжение следует”. И поначалу в роман-фельетон равно вписывались не только Сю и Дюма, но и Гюго и Бальзак. Однако очень скоро намечаются отличия, притом касающиеся самих основ творчества, важнейших его принципов.
Литературе приключений надо было “самоопределиться”, размежеваться с литературой “серьезной”.
Ориентируясь на широкую публику в соответствии с ее потребностями и запросами, эта литература одновременно массовые вкусы и формировала. Но в то же время у писателей истинно талантливых не только отрабатывается техника, накапливается опыт, но рождаются захватывающие, по-настоящему увлекательные повествования. Тот факт, что произведение доходит до читателя небольшими порциями, становится существенной помехой для рассказа о серьезном и глубоком; но эта форма прекрасно подходит для приключения, которое, наоборот, умеет извлечь из этого принципа необходимые эффекты. “Эти стремительные перемещения в пространстве и времени, эта беспрестанная смена декораций, эта подчеркнутая прерывность влекут за собой три множественности — времени, места и действия, то есть усложнение интриги, изобилие персонажей и декораций...” [J.-L. Воrу, Les Myst?res de Paris. — In: “Les Myst?res de Paris” par E. Sue, P., 1963, p. XII] Таково кредо романа-фельетона, но вместе с тем и перечень атрибутов, которые постепенно отбрасываются реализмом, ставшим основным литературным направлением XIX и XX веков. Познание истинной сложности жизни, ее трагических противоречий, психологическое проникновение в глубины человеческого бытия, а вместе с тем погруженность в повседневность, в быт, в реальные обстоятельства — все это исключало, изгоняло приключение из большой литературы, в которой оно так или иначе доселе присутствовало.
Однако именно в то время потребность в приключении стала особенно острой. Развлечься — и отвлечься — стало для маленького человека из большого города насущной необходимостью (вспомним Макара Девушкина), если не спасением (вспомним горьковскую Настю). Но было бы неправильно сводить любовь к приключению только к стремлению задавленного жизнью человека оказаться, пусть на какой-то час, в иной, прекрасной действительности. Потребность в ярком, необыденном, необычном жила у людей всегда, и если большая литература — в силу исторически объективных причин — от него отказывалась, то (по-видимому, закон сохранения литературной энергии тоже существует) должен был возникнуть — на видоизмененной основе чего-то уже существовавшего ранее — новый жанр, который бы эту потребность удовлетворял. Возросшая тяга к приключению, исчезнувшему из большой литературы, у сформировавшегося массового читателя — вот социально-исторические и литературные причины возникновения приключенческой литературы. И время этого возникновения можно датировать с большей или меньшей степенью точности — начало 40-х годов XIX века (если понимать приключение так, как оно определено выше, а не вести отсчет от его дальних предков).
На протяжении веков искусством был накоплен громадный опыт в разработке принципов приключения и форм его подачи, — ведь и в рыцарском, и в плутовском, и в раннем авантюрном романе приключение входило в саму ткань повествования, часто определяло развитие действия. Опыт этот был усвоен мастерами приключенческого жанра. Огромное влияние оказал на них романтизм с его эстетикой контрастов, с его “черно-белыми” четкими нравственными критериями, принципами противостояния добра и зла. Среди тех, кто стоял у самих истоков, питавших эту литературу, надо назвать Вальтера Скотта и Фенимора Купера, но завершил работу, ими начатую, Александр Дюма. После бесчисленных томов, им написанных, приключенческая литература окончательно приобрела характерные черты, выделяющие ее в особый раздел, в особый мир.
Эта трансформация прекрасно видна на примере тех изменений, которые претерпел у Дюма необитаемый остров. В “Графе Монте-Кристо” писатель решительно обрубает нити, в свое время связывавшие историю Робинзона с принципом закономерности, и создает чисто приключенческий сюжет. Приключения здесь, если можно так сказать, уже не выбрасываются морем (как корабль у Дефо) — они привносятся авантюрным героем, который, в соответствии с замыслом Дюма, как бы излучает их. Остров Робинзона существовал и до прибытия сюда английского моряка, он остался неизменным и после того, как Робинзон на нем поселился. Необитаемый остров Монте-Кристо становится таким, каков он есть, лишь после прибытия сюда авантюрного героя, превратившись в сказочные чертоги таинственного повелителя человеческих судеб. Так в дальнейшем и будут функционировать необитаемые острова в книгах приключенческого жанра: был клочок суши — никакой, может, даже его и не было, а вдруг вырос он в одночасье посреди океана специально для того, чтобы автор мог поместить на нем героев. Герои прибывают — и сразу начинаются приключения: сражения пиратов между собой, сражения колонистов с пиратами и даже извержения вулканов... С легкой руки Дюма складывается традиция необитаемого острова как условной приключенческой территории, не подвластной ничьей юрисдикции, изолированной от всякого постороннего вмешательства, где писателю “все можно”. Идея оказалась настолько плодотворной, что дала не только буйные побеги, но, так сказать, и боковые ответвления: например, сформировался сюжет, в котором необитаемый остров превратился в изолированную от всего света территорию, где именно из-за ее изолированности удивительным образом сохранилось прошлое. Подобное сращение двух сюжетов — необитаемого острова и приключений во времени (в дальнейшем — машины времени) — позволило героям Конан Дойла увидеть своими глазами доисторическую флору и фауну (“Затерянный мир”), побывать в Атлантиде (“Маракотова бездна”); доисторическую эпоху, чудом сохранившуюся в полости земного шара (“Плутония”) или где-то в Арктике (“Земля Санникова”), описывает и академик В.Обручев.
Следует сказать, что приключение на замкнутой территории вообще охотно используется писателями, ибо такая отьединенность от большого мира позволяет отсечь “окружающую среду”, избавиться от побочных линий, отступлений, дополнительных мотивировок, от излишнего числа действующих лиц. Тем самым достигается предельная концентрация действия, динамизм, напряженность. Прекрасным примером тому служат многочисленные детективы, по этой схеме созданные: убийство совершил один из находившихся в доме (замке, вагоне, яхте), и оно должно быть разгадано другим из находившихся в доме (замке...) либо до прибытия судебных властей, либо в силу их полной неспособности.
Но вернемся к необитаемым островам. То, что обозначил Дюма, довел до совершенства Стивенсон в “Острове сокровищ” (1883). Остров Робинзона — остров, так сказать, естественный, натуральный. Таким же был и остров Монте-Кристо, пока герой не сказал себе и всем остальным: вот мой остров, что хочу с ним (на нем), то и делаю, — и превратил его в нечто волшебное, весьма напоминающее чудесные сады и дворцы из сказок. У Стивенсона для превращения территории в приключенческую уже не нужна чья-то воля, не нужно никакого обоснования, объяснения — это изначально задано. Стивенсоновский остров не существовал до прибытия туда корабля капитана Смолетта, он соткался из небытия для того, чтобы там могли произойти приключенческие события, и так же исчез в небытие, как только эти события завершились. События-приключения эти тоже не имеют к острову никакого отношения: авантюрные герои привезли их с собой, как прибывший из дальних заморских стран корабль завозит какую-нибудь тропическую лихорадку.
На необитаемом Монте-Кристо действуют современные Дюма люди. Стивенсон же, поместив свой остров в XVIII век, окончательно изолировал его. Стремление классического приключенческого романа поместить свое действие в дальние края и (или) давние времена очень характерно. Ибо на самом деле страны, где происходят все авантюрные события и где всем заправляет случай, просто-напросто не существует. Впрочем, реальная, конкретная страна со всеми сложностями, противоречиями, закономерностями ее развития и бытия не очень писателя и интересует. “Характер данного места не входит в событие как его составная часть, место входит в авантюру лишь как голая абстрактная экстенсивность” [М.Бахтин, Вопросы литературы и эстетики, с. 250], — читаем у М.Бахтина.
Для развития приключения автор создает как бы условную приключенческую территорию, которая имеет очень мало или не имеет ничего общего с ее реальным аналогом. А то, что читатель весьма неполно представляет себе места и эпохи, куда писатель забросил своих персонажей, позволяет лучше маскировать случайность, дабы она не оборачивалась подчас полным неправдоподобием. Читатель достаточно четко знает, что может и чего не может быть в его время в Москве, Париже или Саратове, но мало ли что могло случиться в Древнем Египте, при дворе Екатерины Медичи или на берегах Замбези?
Собственно, любая приключенческая территория есть остров, возникающий из небытия и не имеющий открытого выхода в пространство реального мира. Даже когда герои возвращаются из своего путешествия-приключения в исходную точку, они возвращаются все в ту же приключенческую реальность. Казалось бы, реалистически описанный Париж, куда прибывает граф Монте-Кристо со своего сказочного острова, или Лондон, куда возвращаются конан-дойлевские путешественники из затерянного мира, суть на самом деле условные “приключенческие” города, где оказывается возможным невероятное воскрешение из мертвых или демонстрация птеродактиля, привезенного с южноамериканского плато. На условной приключенческой территории разворачиваются не отдельные эпизоды, а роман в целом, создавая замкнутую сферу, причем с развитием и обособлением приключенческой литературы граница, разделяющая авантюрное и неавантюрное, соблюдается все строже. Сказанное относится, конечно, и к приключенческому времени, — точно так же, как закономерно подвергнуть сомнению реальность монте-кристовского Парижа, можно усомниться и в реальности стивенсоновского XVIII века. “Не может быть, конечно, и речи об исторической локализации авантюрного времени... В этом времени ничего не меняется: мир остается тем же, каким он был...” [М.Бахтин, Вопросы литературы и эстетики, с. 241] — так характеризует М.Бахтин авантюрное время.
Эти свойства авантюрного времени, его сиюминутность, растягивающаяся на всю протяженность действия романа, совершенно непосредственным образом влияют на принципы построения образа и вместе с тем тесно связаны с важнейшим законом приключения — случайностью. Герой выражает себя только через приключение, вне его он не существует, и такая вырванность из контекста времени и пространства уже сама по себе лишает авантюрных персонажей прошлого и будущего. Помимо того, героя, действующего по закону случайности, невозможно выводить из прошлого, то есть из закономерности. В тех случаях, когда предыстория героя нам рассказана (как, например, у Джима Хокинса в “Острове сокровищ”), она, как правило, носит лишь формально-информативный характер. Точно так же и с будущим: какое будущее может логически вытекать из множества случайных ситуаций? Если нам и сообщают, что было с героями впоследствии, то это опять-таки чаще всего дань традиции; на самом деле перед нами не будущее, предопределенное развитием характера, а канонический финал вроде “и я там был, мед-пиво пил”, одинаково подходящий для всех случаев жизни: герой и героиня женятся, у них появляются дети; наперсники и наперсницы приключений, в случае, если они молоды, тоже переженились между собой, а если стары, пристроены при героях дворецкими, нянюшками или садовниками.
Характерно, что и прошлое, и будущее приключенческим персонажам придается чаще всего в классический период приключенческого жанра, в XIX веке, и это есть не что иное, как оглядка на “серьезную” литературу. В действительности же, исчерпывая приключение, герой исчерпывает себя и может существовать дальше только при условии, что возникнут новые захватывающие авантюры, — именно так и существуют, переходя из приключения в приключение, д’Артаньян и Рокамболь, Холмс и Мегрэ, Сьюзен Кэлвин из новелл Азимова или мутанты из новелл Каттнера, а что было в промежутке между этими приключениями — неизвестно, и вычислить это неизвестное не из чего, ибо данных для этого нет никаких. Более того. Полная исчерпанность авантюрного сюжета связана с характернейшей структурной особенностью этой литературы: ее замкнутостью в приключенческом времени и пространстве. В ней нет прямого выхода в жизнь, как в реалистической литературе, и нам и в голову не приходит размышлять, а что же было дальше, после окончания романного действия? Все, что могло случиться, уже случилось, и финал книги не есть знак того, что жизнь вечна, что она продолжается там, за ее пределами. В конце приключенческого романа — не многоточие, а точка.
Предыстория графа Монте-Кристо — его бытие в качестве Эдмона Дантеса, занимающее около четверти объема романа Дюма,— становится, по сути, отдельной историей; между двумя персонажами: простым матросом и полубогом, вершащим судьбами людей, — нет практически ничего общего. Предыстория “Острова сокровищ” уже гораздо короче и в значительной своей части является приключением — появление в трактире “Адмирал Бенбоу” бывшего пирата и все связанные с этим события: карта Острова сокровищ, найденная Джимом Хокинсом, снаряжение корабля, плавание. И если в “Графе Монте-Кристо” еще есть сцены, где что-то “происходит” (например, при описании парижского высшего света), то в “Острове сокровищ” закону случайности подчинен практически весь роман. За сорок лет, пролегших между двумя произведениями, приключенческая литература четко осознала законы собственного существования и, развивая их, отказывалась от того, что не является приключением. Таким образом совершается окончательное размежевание большой и приключенческой литературы. Она находит свои темы, сюжеты и — главное — нащупывает пути, по которым, через сложную эволюцию, придет к решению морально-этических проблем, ранее записанных лишь за “серьезной” (позволим себе ввести такой термин как рабочий) литературой. Важнейшим шагом к приключению размышляющему явился “Таинственный остров” Жюля Верна,— написанный за восемь лет до “Острова сокровищ”, он во многом оказался ближе к современной приключенческой литературе, чем роман Стивенсона.
Предыстория и здесь сведена к нескольким страницам, необходимым, чтобы объяснить, каким образом пятеро человек попадают на необитаемый остров. Воздушный шар, на котором они бежали из плена южан (во время войны Севера и Юга), потерпел аварию; люди эти обживают остров, назвав его именем Линкольна; в этом сложном, подчас опасном деле им помогает таинственный благодетель — он то подбрасывает им ящики с инструментами или лекарство, то помогает расправиться с невесть откуда взявшимися пиратами.
“Давайте смотреть на себя не как на несчастных людей, потерпевших крушение, а как на поселенцев, прибывших на этот остров с определенной целью — основать тут колонию!”—говорит Сайрес Смит, ставший, как мы бы сегодня сказали, лидером поселенцев. Лидерство его самым непосредственным образом связано с его профессией — инженер, первоклассный ученый. Роман написан в эпоху, когда наука начала выходить из младенчества, набирала силу, и сила эта была столь велика, что, казалось, гигант уже достиг зрелости и может все: передавать сообщения на огромное расстояние, управлять машинами, делать людей счастливыми. Так приблизительно и происходит в “Таинственном острове”: под руководством Сайреса Смита островитяне из подручных средств, подручными методами строят жилье, проводят телеграф, изготовляют нитроглицерин (для взрывов, необходимых при постройках), добывают железную руду, варят сталь, занимаются фотографией,— и они счастливы. “Они вели беседу, делились знаниями, строили планы на будущее, а грубоватые, добродушные шутки моряка вносили веселье в этот маленький мирок, в котором неизменно царило полнейшее согласие”.
Это робинзоны новой эпохи, и для них одинаково важно и то, что они имеют возможность делиться знаниями, и то, что они все вместе: человек один, вне общества, не может существовать, он перестает быть человеком. Жюль Верн наглядно демонстрирует нам свою мысль. Извещенные все тем же таинственным незнакомцем, что на ближайшем островке томится такой же, как они, робинзон, но только в одиночестве, поселенцы отправляются туда. И вот кого они там обнаружили: “Взъерошенные волосы, грязная борода, свисавшая на грудь, вместо одежды — набедренная повязка, какой-то рваный лоскут, блуждающие глаза, огромные руки с непомерно длинными ногтями, кожа на лице темная, под стать черному дереву, ступни заскорузлые, будто роговые... одиночество превратило его в зверя, а не просто в дикаря... Должно быть, он уже давным-давно позабыл, кто он такой, отвык пользоваться инструментами, оружием, разучился добывать огонь”. Со временем этот полузверь, полудикарь опять стал человеком, после того, как побыл в обществе людей, вернулся к труду. Труд — необходимость; более того, для героев Жюля Верна он — радость, и именно поэтому пребывание на острове не является для них проклятием. Они мечтают побывать дома, а потом все-таки возвратиться сюда, ибо здесь они творят — свой остров, свой мир, себя.
При всем этом “Таинственный остров” остается приключенческим романом: загадочный незнакомец, спасенный робинзон, пираты и т.п. надежно закрепляют сюжет в авантюрном русле. Приключенческая ситуация, изначально неправдоподобная, развиваясь по своим законам, в конце концов, подобно барону Мюнхгаузену, сама себя вытаскивает из воды за волосы. Поселенцы, которых случай забросил на остров, были бы обречены на гибель, если бы не многократная помощь таинственного незнакомца — капитана Немо; в финале романа они находятся на волосок от смерти в результате извержения вулкана, уничтожившего остров, но случайно именно в этот момент появляется корабль, их спасающий. Вспомним: в “Острове сокровищ” капитан Смолетт и его друзья, в чьи руки случайно попала карта острова, случайно, в последний момент находят эти сокровища, исчезнувшие из тайника, отмеченного на карте,— благодаря тому, что на острове уже много лет робинзоном живет бывший пират Бен Ганн. Все эти “спасающие” случайности появляются изумительно вовремя. Подоспей они раньше — и приключение не состоялось бы: корабль увозит колонистов с острова, так и не дав им пережить борьбу с пиратами и знакомство с капитаном Немо, а Смолетт без всяких осложнений завладевает кладом, о местонахождении которого капитану, сразу же по прибытии его на остров, сообщает Бен Ганн. Подоспей случайное спасение позже — и роман закончился бы крахом, катастрофой — вещь для приключения немыслимая.
Случайность оказывается очень точно срежиссированной, математически выверенной. Такой расчет выступает особенно наглядно в детективе, там выкладки производятся прямо в присутствии читателя: где и когда (с точностью до минуты) каждый из подозреваемых находился. Это — еще одна важнейшая особенность приключения и вместе с тем еще одно коренное отличие “серьезной” литературы от приключенческой, в частности, и потому, что запрограммированность ситуаций приводит к запрограммированности персонажей. Писатель, приступающий к созданию повести о любви или о нравственном возрождении человека после пережитой им трагедии и знающий наперед все поступки своих героев вплоть до мельчайших деталей, должен отправить созданное им в корзину, не доходя до издательства. В полную противоположность ему автор приключенческого романа, детектива, научно-фантастического рассказа, не рассчитавший заранее, с карандашом в руках, как он будет подставлять действующих лиц под подозрение, а потом выводить из-под него, как благородный красавец спасется из пещеры, на одном конце которой его подстерегает злодей со своими приспешниками, а на другом — сохранившееся здесь с доисторических времен чудовище, и как астронавты запустят свой корабль, если у них кончилось горючее, — такой автор просто не сможет довести свое повествование до конца. Случайность и рассчитанность оказываются двумя сторонами одной медали. Запрограммированность оборачивается случайностью (заранее рассчитанный Стивенсоном Бен Ганн имеет вид появившегося совершенно случайно), случайность оказывается запрограммированной (исчезнувший клад необходимо должен был возникнуть вновь). Авантюрный каркас как бы сам себя поддерживает и одновременно замыкает произведение в мире случайности-запрограммированности, создает обособленный, закрытый мир.
“Таинственный остров” — роман, одинаково принадлежащий приключению традиционному и приключению фантастическому. Как и в ряде других произведений Жюля Верна (здесь прежде всего следует назвать “С Земли на Луну” и “Вокруг Луны”), в “Таинственном острове” научная фантастика, можно сказать, на наших глазах естественно вырастает из приключения, — но, может быть, правильнее сказать, что она врастает в него? По-видимому, вернее всего будет говорить о двуедином процессе: о трансформации уже чего-то “бывшего в употреблении” в авантюрной литературе — и о привлечении чего-то нового со стороны. Но ясно одно: приключение поднялось на новую — качественно новую — ступень именно в творчестве Жюля Верна.
Сегодняшнее понимание фантастики Жюля Верна страдает, представляется, некоторой однобокостью, недооценкой масштабов сделанного им; как правило, говорящие (и пишущие) о нем, используя термин самого писателя, характеризуют его произведения как “романы о науке”. Вклад Жюля Верна в научную фантастику слишком часто определяется у нас как создание всего лишь одной из ее линий — жюль-верновского “техницизма”. В таком подходе к творчеству первого научного фантаста — характерное выдвижение на первый план тех моментов, которые захватывали современных ему читателей или любителей чтения в начале века и которые заслоняют, на мой взгляд, более существенные стороны его фантастики, не потерявшие значения и по сей день. “Романы о науке”. Но какая же наука может хоть кого-нибудь привлечь сегодня при знакомстве с идеей путешествия под водой или по воздуху в некоей капсуле, а тем более с идеей полета на Луну в пушечном ядре? А между тем Жюля Верна читают, и пожалуй, охотнее всего подростки, люди, как известно, страстно интересующиеся самыми новыми научными гипотезами и открытиями. Так что же останется привлекательным ныне в книгах этого писателя, если вычесть из них “науку”?
Прежде всего, приключение как таковое: преодоление препятствий, тайны, опасности. Остается авантюрный герой: активный, борющийся, страдающий, побеждающий. И остается фантастика, для которой наука служит объяснением, стимулом для развития действия. Если обратиться не к точке зрения современников писателя, а к сегодняшнему взгляду на научную фантастику, обогащенному знанием ее эволюции, можно сделать вывод: революционизирующая роль Жюля Верна в развитии жанра заключалась не только и не столько в привлечении науки в авантюрный роман, сколько в том, что он ввел в приключение принцип чуда, “научно обосновав” его. В истории о том, как человек благодаря науке обрел сверхъестественное могущество и ему практически нет преград, или о том, как он (опять же благодаря науке) может совершить нечто титаническое, чего не может никто, фантастична сама посылка, а не ее научное обоснование. Подводная лодка далеко не новость, и на Луну люди уже слетали; но современный роман о том, как четверо рядовых людей собрались и слетали на Луну, или о том, как одна подводная лодка стала царствовать во всех морях, является фантастическим и сегодня. Зародыш чего-то похожего мы наблюдали в “Графе Монте-Кристо”, и все же, изображая власть героя над окружающими, Дюма не переступил границ правдоподобия или почти не переступил, — эта власть не превратилась у него в чудо.
Однако не случайно принцип чуда, обоснованный Жюлем Верном, заставляет вспомнить героя Дюма, столь многим обязанного романтизму. Именно для романтизма характерен этот интерес к чудесному, невероятному, именно романтизм усилил интерес к чуду в приключении. И по-видимому, чтобы лучше понять результат, итоги этого “вторжения”, надо попытаться хотя бы в самых общих чертах установить разницу между фантастикой неприключенческой и приключенческой.
“Серьезная” фантастика — это чаще всего фантасмагория; чудесное как бы снимается ссылкой то ли на сон, то ли на слухи (такова фантастика Гофмана, некоторых произведений Гоголя), вызывая у читателя ощущение “то ли было, то ли не было”. Однако позднее у Гоголя, например, “фантастика ушла в быт, в вещи, в поведение людей и в их способ мыслить и говорить” [Ю.Манн, Поэтика Гоголя, М., “Художественная литература”, 1978, с. 129]. От этой странности, которая незримо, но достаточно явственно присутствует в повседневной действительности, придавая ей некий фантастический оттенок, до ирреальности, разросшейся настолько, что она уже вытеснила реальность,— один шаг. Именно такую ирреальность абсолюта мы находим у Кафки. “Нет ни истинного начала, ни истинного конца, нет мотивировки поступков, потому что нет никакого прошлого и никакого будущего, а только “сейчас” и “здесь”.
“Вот этот-то колорит абсурдности, которой пронизана каждая строчка, написанная Кафкой, абсурдности, заранее исключающей даже самое потенциальную возможность на чем-нибудь остановиться, за что-нибудь зацепиться, что-либо понять в происходящем, и является самой характерной чертой его прозы. Все, как песок, уходит между пальцами, все — вещи, слова, дома, люди, мысли; остается лишь чувство головокружения, только страх перед бессмысленностью и непостижимостью жизни” [Д.В.Затонский, Франц Кафка и проблемы модернизма,
М, “Высшая школа”, 1972, с. 100, 101—102], — так характеризует этот тип фантастики Д. Затонский.
Кафка упомянут не только потому, что, за исключением Жюля Верна, научная фантастика — это уже век XX и, следовательно, сравнение ее принципов с принципами, по которым строится, например, “Превращение”, становится вполне правомерным. Но, кроме того, у Кафки доведены до своего крайнего выражения некоторые характерные черты неприключенческой фантастики, они становятся особо зримыми. Уже говорилось об ирреальности, об ощущении “было — не было”. Второе чувство, рождаемое такой фантастикой, — как правило, чувство страха. И наконец, главное — эти фантасмагории возникают не на ровном месте, у них глубокие корни. Они вырастают из психологии и психики персонажей, из их социального и индивидуального бытия, они причинны. Людям кажется, что они — нормальные люди, живут нормальной жизнью по ее нормальным законам. Гофман, Эдгар По, Гоголь, Кафка обнажают суть, выделяя нечеловеческое в человеке и в жизни, куда погружены эти нечеловеческие люди. Они, эти люди, принимают механическую куклу за прекрасную девушку (“Песочный человек”), а отвратительного карлика — за божество (“Крошка Цахес”). Разве не ирреален мир, где такое возможно, и разве не фантасмагория он? И вслед за персонажами Гофмана появляется жуткий старик из “Человека толпы” Эдгара По, появляется Нос или отвратительное насекомое, бывшее когда-то Грегором Замзой.
Жюль Верн, перенося фантастику в приключение, шел от Эдгара По, рассказами которого он увлекался. Однако фантасмагории американского писателя были им коренным образом переработаны, творчески “приспособлены” к приключению, и именно потому его труд увенчался успехом. Какие же изменения претерпела фантастика, перейдя из одной литературы в другую?
Фантастика — и это, пожалуй, главное — уже не вырастает здесь из чьего-то сознания, не отражает, концентрируя словно в фокусе искривленную человеческую психику, нечеловеческое в людях и в жизни. Фантастическое в приключенческой литературе возникает на ровном месте, не из чего, — так возникают яства на скатерти-самобранке, так людоед превращается вдруг в мышку, а Золушка — в принцессу. Так возникает в приключении из небытия необитаемый остров, чтобы пираты могли уладить на нем свои авантюрные дела. Существовал себе спокойно цивилизованный мир, и вдруг в нем появился “Наутилус”, или человек, который с помощью загадочного изобретения задумал лишить всех жителей Земли воздуха, или инженер Гарин со своим гиперболоидом. Словом, происходит чудо. Само возникновение фантастического внезапно, случайно, как всякое приключение. Но, однажды возникнув, оно, в отличие от причудливого, хаотического движения фантастики в большой литературе, развивается по строгим авантюрным законам, при этом вполне умещаясь в рамки случайности-запрограммированности .
Итак, в романах Жюля Верна впервые пришло в приключение чудо — нечто невероятное, что случается на условной приключенческой территории, в некоем условном приключенческом времени. (Условность времени и пространства в романах Жюля Верна — идет ли речь об острове Линкольна, о ядре, летящем на Луну, или о борте “Наутилуса”, — а вслед за ним и в научной фантастике вообще, выступает, как правило, гораздо более явственно, чем в традиционном приключенческом романе или в детективе.) Начавшись с изобретения, которое делает сказочно могущественным одного человека, понятие чуда развивалось, что называется, вглубь и вширь и вскоре стало охватывать целые общества (предполагаемое будущее) или даже цивилизации (внеземные). При этом происходит процесс, прямо противоположный тому, что мы видим у Гофмана или Кафки. Задача неприключенческой фантастики — в привычном, знакомом выявить чуждое, нечеловеческое. Фантастика приключенческая, смоделировав нечто несуществующее, возникшее из ничего, наделяет эту модель чем-то знакомым, “людским”. Одна фантастика вскрывает в человеке автомат, отчужденное, механическое начало, другая описывает роботов, обладающих человеческими чувствами (заметим попутно, что в самом стиле наблюдается здесь тяготение к обычной, нередко даже сниженной, повседневной речи, которая призвана лишний раз подтвердить обычность происходящего). Конечной целью и той и другой фантастики является человек, проблемы человеческого общества, но подходят они к ним с прямо противоположных сторон.
В приключении фантастика объявляет себя действительностью, отбрасывает всякие намеки типа “было — не было” и утверждает решительно: “было”. Во времена Жюля Верна подобные утверждения, не снятые ссылкой на сновидение, могли подаваться только как картины больного воображения (“Орля” Мопассана) или как глубокомысленные рассказы странницы Феклуши о людях с песьими головами. Значит, приключенческая литература должна была убрать все ирреальное, болезненное, тем более что оно прямо противоречило самой природе авантюры, которая, как и ее герои, отличается железным здоровьем.
Вот теперь, пожалуй, становится яснее назначение науки в романах Жюля Верна. Занимая в них огромное место, она играет несколько ролей сразу. Во-первых, переводит повествование в план рационального. Мощный щит из точных, соответствующих действительности (а не выдуманных) научных данных, фактов защищает фантастическую посылку, — так в традиционном приключении точная карта Острова сокровищ заставляет забыть, что самого острова не существует. Разбирая деятельность колонистов на острове Линкольна, выше мы уже говорили, что наука, чьи достижения так волновали умы, придает романам Жюля Верна романтичность, столь необходимую приключению. Описание строительства телеграфа на необитаемом острове пришло на смену рассказу о том, как герой объезжает дикого мустанга. И наконец, Жюль Верн взял на себя и популяризаторскую миссию: показать необозримые возможности науки.
Это приводит к тому, что местами его романы превращаются чуть ли не в трактаты или справочники, — типичная болезнь роста, со временем изжитая фантастами. (Напомним, что в современной научной фантастике существует течение, называемое “фэнтази”, где научное объяснение чуда и вовсе отбрасывается и где запросто действуют черти, ведьмы, феи, да и самые обычные люди могут творить чудеса.) Само же фантастическое начало, так развившееся впоследствии, у Жюля Верна еще очень ограничено, сужено. Оно весьма напоминает волшебную шпагу, которой обладают д’Артаньян и Питер Брум (“Прекрасная Маргарет” Р.Хаггарда) или любой другой авантюрный герой — благо каждый из них наделен, в пределах разумного правдоподобия, чем-то похожим, что помогает ему неизменно выходить победителем из всех ситуаций. Только у них это чудесное всемогущество существовало как нечто подразумевающееся, растворенное в герое, в его мужестве, ловкости и уме. Теперь же оно предстает перед нами отдельно, само по себе: снаряд, запускаемый на Луну, “Наутилус”, — а “разумное правдоподобие” отвергается.
Однако при всей ограниченности фантастического начала у Жюля Верна в нем есть главное: по сравнению с неприключенческой фантастикой это начало воплощено не в иррациональном носителе зла, не растворено незримо в воздухе, но выражено в конкретных, зримых образах, и данный принцип взяла на вооружение вся современная научная фантастика. Какая может быть символика в роботе, умеющем править корректуру, из рассказа А.Азимова или в самой идее машины времени? Символика графини в “Пиковой даме”, старика в “Человеке из толпы” или машины для наказания в новелле Кафки явственно ощутима, но при этом сформулировать ее непросто, она ускользает от точных, однозначных определений. В научной фантастике все происходящее очень логично, конкретно, ясно — и именно поэтому в ней не возникает ощущения беспричинного страха, свойственного, как правило, “серьезной” фантастике. Герои братьев Стругацких, Азимова, Лема могут испытывать чувство страха, но чаще всего речь идет о конкретной опасности, имеющей конкретные причины.
Мы говорили о романтизирующей функции науки у Жюля Верна, которая во многом заменяет экзотику путешествий. Сходную роль играет и чисто фантастическое начало: там, где авторы раньше помещали бизона или гепарда, нападающего на мужественных путешественников, фантасты используют каких-нибудь летающих гидр, а вместо непроходимых джунглей исследователи оказываются перед загадкой мыслящего океана. Чудо естественно и органично было включено в приключенческую литературу. Фантастические мотивы наложились на привычные ситуации, схемы, построения.
Однако у научной фантастики есть одна особенность, которая отличает ее от традиционного приключения,— философичность, заложенная в самом принципе чуда: и если считать, что его ввел в приключение Жюль Верн, то надо признать, что он же, следовательно, ввел в авантюрную литературу и философское начало, впоследствии блестяще развитое Г.Уэллсом. Действительно: чудо, в отличие от клада, найденного на Острове сокровищ, или от алмазных подвесок, доставленных д’Артаньяном из Лондона королеве, несет в себе далеко идущие последствия для очень многих людей, и это видно уже в истории капитана Немо: встал он на сторону островитян против напавших на них пиратов — и вот уже пущенное им в ход неведомое оружие взрывает пиратский корабль, а другое загадочное оружие настигает и самих морских разбойников. Какие последствия будет иметь чудо (независимо от того, выступает в этой роли “Наутилус”, загадочное оружие, инопланетяне или общество будущего) — вопрос, неизбежно встающий. И уже самый факт, что автор и читатели должны решать вопрос, каким будет общество будущего (а не кто и как убил или где клад), — уже самый этот факт показывает: привнесение фантастики в приключение открыло качественно новые возможности древней системы, перевело приключенческую литературу на качественно новый уровень художественного мышления.
Важнейшей особенностью научной фантастики становится гораздо более свободная, по сравнению с традиционными авантюрами, структура самого приключения. Когда д’Артаньян выезжает в Лондон за алмазными подвесками, мы прекрасно понимаем, что его подстерегает на этом пути: агенты кардинала сделают все возможное, дабы он не достиг цели. Когда благородный капитан Блад (“Одиссея капитана Блада” Р.Сабатини) выходит в море, то приключения этого необычного пирата мы тоже можем себе в общих чертах представить: галеон, груженный заморскими товарами, дым сражения, абордаж. Еще более жесткая структура у детектива, — в девяти случаях из десяти вы знаете, что предстоит расследующему преступление человеку: сначала его подозрение падет на одного невиновного, потом скорее всего на другого, однако после ряда тупиков в следствии он-таки выйдет на настоящего виновника. Но что может ожидать человека, впервые попавшего на неизвестную планету или в далекое будущее, представить уже гораздо труднее, а иногда и просто невозможно. Писатель волен здесь предложить любое решение.
Зародышем подобного моделирования в “Таинственном острове” являются не только загадочные технические изобретения капитана Немо начиная с его знаменитого “Наутилуса”, но (и это, пожалуй, элемент даже более важный) и попытка изобразить чисто гипотетический мир, почти отказавшись от реалистически выписанных декораций, на фоне которых развертываются приключения, — на сей раз они не изображают ни отдаленной эпохи, ни экзотической страны, не представляют и современного Жюлю Верну мира. Группа островитян в “Таинственном острове” воспринимается нами как некая модель идеального человеческого общества (характерно, что среди этих людей нет ни одного злодея,— вещь для классического приключенческого романа довольно редкая, злодеи-пираты прибывают на остров извне), и движимо это общество всемогущей наукой.
Любое чудо, как мы уже говорили, есть одновременно философская проблема, именно потому, что, строя свой вариант утопии, того, как должно быть, писатель не может не задуматься над кардинальными проблемами своего общества, своего века. Видя, сколь романтически Жюль Верн воспринимает науку и человека, ею владеющего, мы понимаем: в этом — веяния времени, характерный признак эпохи, который колонисты принесли с собой на остров Линкольна, равно как отразились они и в выбранном ими названии острова, хотя, пишет автор, “разве могли они знать о том, что шестнадцать дней спустя в Вашингтоне произойдет злодейское преступление, что в страстную пятницу Авраам Линкольн падет от руки фанатика”. Фраза эта, напоминающая об одном из драматичнейших событий политической жизни XIX века, пожалуй, лучше всего характеризует эту вторую (в отличие от “Острова сокровищ”) линию в приключенческой литературе, которая помнит о проблемах века, размышляет о них, не изменяя при этом своей природе. Время шло, уже пересекали океан трансатлантические пароходы, наука двигалась вперед, но мир от этого не стал намного лучше. “В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет”,— так резюмировал Ильф это прозрение. Кстати, именно развитие науки и техники способствовало исчезновению необитаемых островов, неведомых земель и затерянных миров, а ведь они так нужны людям. И тогда с помощью все того же Жюля Верна, совершившего путешествие вокруг Луны, приключение ушло в космос. Вот они — новые необитаемые острова, куда попадают робинзоны XX века. Каждая планета — остров. Выдумывай что хочешь: жуткие чудовища, мыслящие сколопендры, океан из жидкого метана, тяготение 700 g и т. д.
Конечно, интересно узнать, представить себе, какие могут быть формы жизни помимо человеческой, но, как говорит персонаж нескольких произведений Стругацких борт-инженер (конечно, космический) Жилин, думая о предстоящем рейсе: “Значит, теперь Трансплутон, он же Цербер. Далекий-далекий. От всего далекий. От Земли далекий, от людей далекий, от главного далекий... Главное всегда остается на Земле, и я останусь на Земле”. Настоящая научная фантастика всегда остается на Земле, потому что говорит о человеке, даже если речь идет о внеземных цивилизациях. К таким произведениям можно отнести “Обитаемый остров” Стругацких. Само название книги, равно как и название первой ее части, “Робинзон”, приводит нас к ситуации хорошо знакомой, но только парадоксальным образом вывернутой наизнанку. Робинзон — землянин Максим Камерер, человек будущего, в результате поломки своего корабля оказывается на планете: тяготение земное, вода как вода, люди как люди, только в районах, подвергшихся некогда атомным ударам, имеются мутанты, выродившиеся потомки тех, кто эти удары пережил. Проблемы, волнующие авторов, чисто человеческого, земного свойства. Это и попытка представить, как человек будет вести себя, столкнувшись с обществом людей, отличным от его собственного, причем отличным в дурную сторону. Это и как бы взгляд со стороны, вернее, из будущего на современный город, являющий собой скопление машин, людей и серых стен. Авторы стремятся показать, что может статься с районами, в которых произошла “небольшая”, “местная” атомная война, и во что превращается человек, одурманенный беззастенчиво лживой пропагандой, показывают людей, жизнью своей жертвующих ради борьбы с ней, с угрозой новой войны. И все эти проблемы, несущие определенное философское начало, решаются в классических приключенческих традициях и формах: погони, стрельба, герой, который и в воде не тонет, и в огне не горит, его чистая любовь к местной красавице. Максим борется, борется активно, делая все, что в его силах, чтобы достичь главной цели — люди должны стать людьми.
И тут, пожалуй, настало время поговорить об эволюции нравственной проблематики в приключенческой литературе, о движении и изменении моральной стороны приключения. Вспомним, какова была задача героев в разобранных нами романах. Робинзон Крузо: цель его высока и духовна — остаться человеком, и именно она заставляет нас отнести роман к нравственно-морализаторскому направлению в литературе своей эпохи. Монте-Кристо: высокая романтическая цель (так декларируется она автором и самим героем) — невинно осужденный, бежавший из тюрьмы, мстит тем, по чьему злому умыслу он оказался в многолетнем заточении. Но если присмотреться поближе, то окажется, что весь огромный арсенал романа — несметные богатства, всепроницающий ум, ореол загадочности и “нездешности” — используется ради четырех человек, которых надо, попросту говоря, убить. Дюма привел в действие бесчисленные рычаги романтической и авантюрной поэтики, сумев превратить мерзкие интриги и хладнокровно-жестокие убийства в благородное мщение,— это слово даже можно, как это часто бывает в авантюрных романах, написать с большой буквы: Мщение. Но именно потому, что пришлось пустить в ход столь могучие средства, они вступили в противоречие с мелкостью задачи. Несмотря на принятые Дюма меры, все-таки при ближайшем рассмотрении Монте-Кристо оказывается довольно типичным романтическим героем, действующим во имя своих интересов даже тогда, когда он творит добро.
К тому моменту, когда Стивенсон писал “Остров сокровищ”, авантюрная этика уже твердо сложилась, и никаких жестокостей созданные писателем герои сознательно не творят (только в порядке самообороны), но действуют, как и персонажи Дюма, исключительно в своих интересах. Масштабы цели, средства ее достижения, масштабы характеров героев приведены в соответствие между собой. Герои Стивенсона честно, откровенно хотят денег, а не романтического Мщения, и денег для себя (а не для революции, как то было в популярном советском довоенном фильме, сделанном по мотивам романа; ни на какую революцию и доктор Ливси, и юный Джим Хокинс своих денег, да еще полученных столь страшной ценой, никогда бы не отдали).
В дальнейшем наживу как цель, поставленную перед собой благородным героем, авантюрная литература отвергает. Например, Сабатини, продолжатель линии Стивенсона, выбирает для своего великодушного пирата Питера Блада миссию защитника слабых, лишь по воле обстоятельств и под давлением команды вынужденного нападать на корабли; самого же Питера добыча не интересует. Целью колонистов на острове Линкольна является труд и превращение острова в идеальное поселение. А капитан Немо, таинственный покровитель колонистов, бывший когда-то индийским принцем Даккаром, несмотря на всю свою власть и огромное состояние, не смог добиться осуществления главной задачи своей жизни — независимости для своего народа; удалившись от мира, он все-таки помогает тем, кто, по его мнению, того заслуживает: греческим повстанцам, Сайресу Смиту и его друзьям. Причем изображение борьбы с поработителями в приключенческой литературе имеет свою традицию. Можно назвать такие классические произведения, как “Оцеола, вождь семинолов” Майн Рида, “Капитан Сорвиголова” Л.Буссенара, “Твердая рука” Г. Эмара и т.п.
Но есть нечто существенно новое в действиях Максима Камерера по сравнению с его предшественниками. Изменение цели героя, нравственная эволюция приключения неразрывно связаны с его философской насыщенностью. Принц Даккар и капитан Сорви-голова, Матиас Шандор (из одноименного романа Жюля Верна) без колебаний идут на врага, все они мужественные, прекрасные люди. Но вот появляются произведения научной фантастики, в которых к изначально заданной нравственности героя, к изначально определенной его миссии добавляются нравственные проблемы. По сути, именно этим проблемам и посвящено произведение. Естественно, морально-философские размышления о кардинальных вопросах бытия, идущие от самого принципа научной фантастики, принципа чуда (какими будут его последствия? что оно даст людям?), поднимают приключение на новую высоту. Максим Камерер или Румата из “Трудно быть богом” исполнены тяжких сомнений, раздумий. Сокрушить злодея — да, конечно, но это нечто само собой разумеющееся для Максима; главное для него — и намного более трудное — понять, почему симпатичный Гай стал капралом Железного легиона и воюет против партизан, борцов за свободу своей страны, а поняв, сделать так, чтобы Гай и сотни ему подобных шли не против партизан, а вместе с ними. Собственно, эту же проблему, под разными углами зрения рассматриваемую: почему неплохие вроде бы люди оказываются пассивными в борьбе со злом или попадают под его страшный молот, даже не осознав, как и почему это произошло, а иногда и вовсе оказываются на стороне зла, — эту проблему так или иначе затрагивают Стругацкие в романах “Трудно быть богом”, “Хищные вещи века”, “Пикник на обочине”. И заключена она в форму приключенческого романа: жанр обновляется, он способен выдержать такую нагрузку.
Только не надо понимать слово “приключение” как ряд формальных приемов, обеспечивающих произведению дешевый успех у неискушенного читателя. Мы уже говорили: приключение появилось задолго до возникновения того, что именуется сегодня приключенческой литературой, оно имеет историю не менее древнюю и не менее славную, чем, предположим, лирическая поэзия, и уже одно это должно было бы вызывать некоторое уважение, как и всякий почтенный возраст. Отрабатывая собственные каноны, развиваясь и обогащаясь, приключение стало философским, ему под силу решать сложные нравственные проблемы, но это не значит, что оно утеряло или полностью изменило свою суть, низведя авантюрное начало до минимума, во славу философичности. Приключение диктует свои законы произведению, “очутившемуся” в сфере его влияния, оно формирует его во всем, начиная от второстепенных деталей и кончая важнейшими принципами построения характера и произведения в целом.
Приключение — а это прежде всего активный герой, реализующий себя в поступке, побеждающий или по крайней мере борющийся,— вот что делает даже самые мрачные произведения научной фантастики в корне отличными от фантастики неприключенческой. Причем герой обязательно благороден, он воистину рыцарь без страха и упрека; и даже если он не побеждает злодея, то, уж во всяком случае, не поддается злу, не идет на уступки, на сделку со своей совестью. И объясняются эти качества героя не просто тем, что литература вообще за “хороших” против “плохих”, — характер персонажа связан с самими принципами построения любого приключенческого произведения. В жизни и большой литературе человек может испугаться, отступить, что и становится основой драмы, трагедии. В приключенческой литературе ничего подобного быть не может — иначе роман просто не состоится. Великий Сыщик непременно соглашается расследовать сложное и, казалось бы, безнадежное дело. Герой обязан принять сулящее большой риск предложение независимо от того, идет ли речь о путешествии на загадочное плато в Южной Америке, о походе в копи царя Соломона (варианты, типичные для XIX века) или же о путешествии во времени (порождение нашей эпохи). Более того, точно так же, очертя голову, действующие лица должны бросаться и в авантюры, которые совершенно очевидно грозят им бедой. Увидев вооруженного до зубов врага в сопровождении нескольких приспешников, безоружный герой не может ретироваться, хотя бы даже из стратегических соображений: он должен бесстрашно броситься в схватку, чтобы (это запрограммировано!) попасть в лапы злодея, а попасть в эти лапы он должен, чтобы проявить мужество, ловкость и ум во время будущего побега и т. п.
Великий Сыщик в качестве примера упомянут не зря. Здесь много говорилось о тра
диционном приключенческом романе и о научной фантастике и совсем немного — о детективе. Родство детектива и приключения несомненно, но какова степень этого родства? Как известно, основной детективный принцип: сначала нам показывают следствие, то есть что было потом, а затем, и в итоге, мы видим, что было до, то есть само преступление. Ряд исследователей справедливо отмечают, что, расположив события в детективе в хронологическом порядке, мы получим приключение [См., например: R.Caillois, Puissances du roman, Marseille, 1942, p. 77—79; Я.Маркулан, Зарубежный кинодетектив, Л., “Искусство”, 1975; А.Вулис, Поэтика детектива. — “Новый мир”, 1978, № 1]. Приключение, правда, очень своеобразное, с присущими ему законами и уставами. Но, может быть, в этом случае оно настолько своеобразно, что уже выпадает из орбиты приключенческой литературы, образовав специфическую детективную “епархию”? Не ограничиваясь общими констатациями, разберемся конкретней.
Обратимся к Конан Дойлу, который для детектива сделал, пожалуй, то же, что Дюма для авантюрного романа: окончательно оформил, закрепил как жанр поиски, начатые Э.По, Э.Сю, А.Дюма, а позднее У.Коллинзом. Напомним, что некоторые классические рассказы о Шерлоке Холмсе — приключения. Например, “Последнее дело Холмса”, в котором речь идет не о расследовании с допросом свидетелей, сбором улик, логическими рассуждениями, а о борьбе Холмса с профессором преступного мира Мориарти. Борьбу его можно уподобить той, которую храбрые мушкетеры вели с Миледи; и в конце ее Холмс погибает (впоследствии Конан Дойл его все-таки воскресил). Или “Конец Чарльза Огастеса Милвертона”. В этой новелле Холмс и Уотсон идут вскрывать сейф известного шантажиста и случайно становятся свидетелями того, как одна из жертв шантажиста его убивает. Здесь тоже, как видим, никакого расследования нет, нет и непременной детективной формулы после и до, зато есть хорошо рассчитанная случайность и вполне монте-кристовская тема мщения. Если учесть, что один из сборников рассказов Конан Дойла назывался “Приключения Шерлока Холмса”, то можно предположить, что их автор не делал различия между авантюрами профессора Челленджера в затерянном мире и холмсовскими — в Лондоне.
Запрограммированная случайность в детективе вообще бросается в глаза, пожалуй, даже больше, чем в авантюрном романе. Здесь и предельно точный расчет перемещений героев в пространстве и времени, и свидетели, которые совершенно случайно запомнили, что они делали семнадцать дней назад от трех до пяти вечера, и зажигалка, случайно оставленная героем на месте преступления, чтобы его можно было заподозрить, и много чего подобного. Все это случайно, и все это рассчитано.
Еще одна черта детектива, свойственная приключению вообще, — он не прослеживает будущее своих героев. Не имеют они и прошлого (если не считать чисто формальных указаний на то, что привело персонаж к преступлению), причем такое же отсутствие предыстории характерно и для сыщиков (Холмс, Мегрэ...).
Пункт следующий. Где происходит действие “Восточного экспресса”, всеми признанного шедевра Агаты Кристи, или ее же “Десяти негритят”? Поезд и остров, где разворачиваются события названных романов, могут находиться где угодно и в какую угодно эпоху. А научно-фантастический детектив? “Отель “У погибшего альпиниста” Стругацких, “Гений” не может ошибаться” Дж. Мак-Интоша или ряд новелл из великолепной серии А.Азимова о роботах и робопсихологе Сьюзен Кэлвин (“Улики”, “Женская интуиция”, “Как потерялся робот”), имеющих явно детективный акцент? Где происходит здесь действие и когда? Не имеем ли мы дело с той же самой условной приключенческой территорией и приключенческим временем? Более того. Другой признанный шедевр — “Собака Баскервилей”. Бейкер-стрит, старая добрая Англия, которая, кажется, так и заявляет о себе с каждой страницы повести. И все же: попробуйте перенести действие, предположим, в Данию, переименовав соответственно персонажей и названия улиц, городов и поселков, и это вам удастся. “Собака Баскервилей” (или как она теперь будет называться) останется тем, чем была. И гостиница, где остановился приехавший из-за океана отпрыск старинного рода, наследник поместья и титула, и замок, куда он потом переезжает, и мрачные болота, замок окружающие, прекрасно могут существовать и на датской почве, равно как дворецкий, беглый каторжник, Великий Сыщик и его простодушный друг доктор. Вы можете оставить Холмса в Англии, но переместить его во времени, и тогда выяснится, что история о страшном чудовище, преследовавшем род Баскервилей, могла вполне разыграться в начале XIX века, да, пожалуй, и в наше время, — мало ли что там у этих английских аристократов случается. Повесть от подобных трансформаций, конечно, не выиграла бы, но после каких-то переделок, касающихся чисто внешней стороны дела, сохранила бы в неприкосновенности фабулу, лихие повороты сюжета и — самое главное — так же захватывала бы читателя.
А когда встречает Мегрэ в кафе “Купол” Рудека (роман “Цена головы”)? В 20-е годы? В 70-е? Невозможно представить себе в большой литературе роман, написанный в том же реалистическом стиле, что и истории про комиссара Мегрэ, прочитав который мы бы так и не смогли ответить на заданный вопрос. И ни одно сколько-нибудь крупное произведение, стоящее в “серьезной” литературе так же высоко, как “Собака Баскервилей” в детективном жанре, не перенесло бы экспериментов с перемещением во времени и пространстве. Мы можем очень хорошо представить себе Нью-Йорк новелл О’ Генри, даже если мы давно их не перечитывали; мы сразу увидим этих маленьких продавщиц, официанток, стенографисток, мелких жуликов, разносчиков, бездельников, зевак, их суету и мельтешение, их маленькие радости и большие горести. Серия Мегрэ насчитывает несколько десятков романов, но, представив себе Париж Мегрэ, мы не сможем его населить; будет знаменитая “атмосфера”, которую мастерски создает Ж.Сименон, будет Париж вообще, написанный с такой любовью, что и мы влюбляемся в этот город, — и все. Кроме самого комиссара в пальто с бархатным воротником и с неизменной трубкой в зубах и его жены, вряд ли мы вспомним кого-нибудь еще. Не свидетельствует ли это о том, что Конан Дойл и Ж.Сименон, авторы, рассказавшие нам поразительные и яркие и вроде бы очень точно очерченные во времени и пространстве истории, использовали тот же прием, что Стивенсон, когда он метил своих пиратов “черными метками” и другими остающимися в памяти атрибутами, образующими вокруг них некий загадочный, красочный ореол.
В “Собаке Баскервилей” такой ореол возникает прежде всего благодаря старинному мрачному замку, честно работающему, дабы создать “страшное” впечатление, — такова традиция еще со времен “Замка Отранто” (1764) Г.Уолпола. Впечатление это усиливается благодаря окружающей замок Гримпенской трясине, мрачной и пустынной, откуда к тому же временами доносятся какие-то жуткие звуки. Ж.Сименон, правда, ужаса на читателя не наводит, но действует сходным образом, создавая “атмосферу” произведения. В “Цене головы” это “Купол” с его яркой, пестрой, разношерстной, многонациональной публикой, поражающей воображение рядового читателя. Впрочем, гораздо чаще Сименон предпочитает писать маленькие, уютные, домашние кафе, — еще один способ создавать настроение, которым проникается читатель, ведь обстановка для него легко узнаваема. Кстати, подобная узнаваемость отдельной детали, картины, сцены служит в литературе приключений прекрасным прикрытием целого, условного в своей случайности-запрограммированности, и в то же время верным показателем мастерства писателя. Именно насыщенность произведения подобными деталями создает в приключенческом времени и пространстве полную иллюзию реального, осязаемого мира, превращает авантюрную схему в живое, волнующее повествование.
Еще один мотив, характерный для многих книг Ж.Сименона, и не только из серии, посвященной комиссару Мегрэ: промозглая сырость, подчас пронизывающая все произведение. Причина ее, может быть, просто в том, что “все воскресенье шел холодный мелкий дождь, крыши и мостовые почернели и стали блестящими, желтоватый туман, казалось, проникал сквозь оконные щели” (“Мегрэ и человек на скамейке”), — такие пейзажи в сименоновском Париже не редкость. Но, может быть, гораздо чаще действие в его произведениях происходит у реки, у канала, у моря. Тогда сырость идет оттуда, да и погода почему-то при этом бывает неважная — ветер, дождь (“Желтый пес”, “Коновод с баржи “Провидение”, “Кафе “У рыбаков с Ньюфаундленда”, “Буря над Ла-Маншем”, “Приют утопленников”, “Порт туманов”).
Иными словами, и Конан Дойл, и Ж.Сименон броскими, без конца повторяемыми, а потому врезающимися в память деталями, штрихами создают картину чисто внешнюю, но настолько зримую, настолько запоминающуюся, что полностью скрывают от читателя условность времени и пространства, в которых действуют их герои. (Как раз эту условность ни Агата Кристи, ни авторы космических детективов прятать не желают.)
Однако идет ли речь о детективе (хоть космическом, хоть земном), о традиционном приключенческом романе или о научной фантастике, история, развивающаяся в условном приключенческом времени и пространстве, в одном безусловна: в своем нравственном потенциале. Через трудности, препятствия, страшные схватки с противником, через смертельную опасность идет герой к своей трудной победе, и все это время читатель как бы отождествляет себя с ним, сопереживает ему. Ибо в неизменной победе добра над злом, в победе д’Артаньяна над Миледи, Холмса — над Мориарти или просто над очередным, не столь крупным негодяем, в победе Максима над страшными правителями “обитаемого острова” воплощается извечная мечта о справедливости, воплощается нравственный идеал человека. Именно в “завышенных” этических нормах, в идеальности таится притягательная сила приключенческой литературы, именно это прежде всего делает ее литературой. Та же “завышенность” морально-этических норм, их прочность и неизменность больше всего, пожалуй, из всех других компонентов приключения способствуют тому, что очередная вариация традиционного сюжета, построенная на основе канонических элементов, наполняется особым содержанием, заставляющим чаще биться сердце читателя.
Эволюция приключенческой литературы совершается на наших глазах. Мы наблюдаем живой процесс, и происходит он весьма интенсивно, на основе тех принципов, которые эта литература выработала в классический период существования жанра, в XIX веке, развиваясь и обособляясь от большой литературы. Если кратко резюмировать эти принципы, возникшие в свою очередь на базе древнего авантюрного канона, то во главу угла следует поставить двуединую систему: случайность-запрограммированность. Лишенное изначальной мотивировки приключение развертывается вне реального пространства и времени, на условной приключенческой территории, которую писатели XIX века предпочитают, однако, “маскировать” под определенную страну и эпоху, желательно отдаленные. Отбрасывая все, что не относится к приключению (а таких элементов еще немало, например, в “Графе Монте-Кристо”), сокращая количество сюжетных линий в рамках одного романа, приключенческая литература добилась динамизма в развертывании действия со множествам экстремальных ситуаций, а авантюрный каркас стал охватывать все произведение.
Именно эти принципы унаследовало фантастическое приключение. И хотя оно не маскирует выдумку под реально произошедшие события, конструируя самые невероятные ситуации, в них очень часто при ближайшем рассмотрении обнаруживаются традиционные авантюрные ходы, все признаки веками отрабатывавшегося авантюрного канона. Однако самый отказ от маскировки весьма характерен и свидетельствует о том, что перед нами литература, которая уже ощущает себя вполне самостоятельной по отношению к литературе неприключенческой: поднимая общие для той и другой нравственно-философские проблемы, мир приключений выработал свою поэтику, свою систему образов.
Трудно сказать, как будет протекать дальнейшее развитие приключения, но сейчас ясно одно: за полтора века, пройдя сложный путь, оно превратилось из захватывающего дух рассказа о подвигах благородного героя в историю трудной борьбы героя благородного и размышляющего. Приключение сегодня резко отличается от своего вчерашнего собрата именно философичностью, сложностью вопросов, которые оно не боится поднимать. Выработав собственные приемы, компенсирующие схематизм образов и положений, приключенческая литература стала успешно решать задачи, бывшие ранее прерогативой большой литературы. Она справляется с ними тем успешнее, что сочетает с напряженностью сюжета подлинный, вовсе не бодряческий оптимизм, четкость морально-эстетических оценок. Поэтому не надо стесняться (как это часто бывает) слова “приключение” — оно вполне заслужило, чтобы стать в один ряд с такими уважаемыми терминами, как “психологическая драма”, “философский роман” или “семейная хроника”.
А литература эта растет и количественно (тиражи, новые серии, журналы, выпуски), и качественно. Приключение начиналось как роман. Затем появились повесть, пьеса, новелла. Говорить, как некогда, о едином приключенческом жанре уже нельзя; приходится, по-видимому, говорить о виде, занимающем все большее место в жизни современного человека и в современной литературе. Когда-то писали исключительно о влиянии (облагораживающем) “серьезной” литературы на приключенческую. Сегодня и приключенческая литература оказывает на “серьезную” весьма существенное воздействие (как и на искусство кино, телевидение).
Все это означает одно: приключенческая литература сегодня — вещь сложная, интересная и настоящая. Как странный анахронизм воспринимаются слова критика, заявившего по прочтении рассказов о Шерлоке Холмсе: “Это, разумеется, литература второго сорта, но литература, содержащая тот минимум достоинств, которые позволили ей пережить своего автора” [Богомил Райнов, Черный роман, М., “Прогресс”, 1975, с. 43]. Однако анахронизм сей был сформулирован в книге, вышедшей в 1970 году, и является отражением взгляда, бывшего почти общепринятым и — как ныне становится все более ясным — глубоко ошибочным. Подобные воззрения долгое время мешали изучению приключенческой литературы. Сейчас они постепенно уходят в прошлое. Думается, настала пора выработать новый подход к этой сложной системе, и исходя из ее собственных законов, раскрыть это многообразное явление во всех его взаимосвязях, познать его специфику, закономерности развития, чтобы способствовать дальнейшему росту приключенческой литературы, повышению ее художественного уровня.
“Вопросы литературы”, 1982, № 2, 170-202